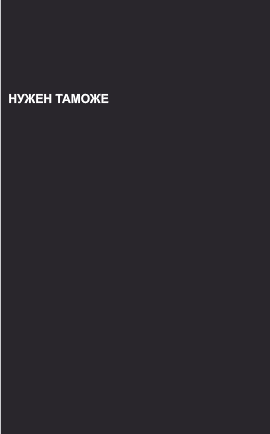Глеб Олегович, 2018 год нам запомнится «новой искренностью» чиновников, которые простодушно заговорили то, что думают. Откуда это взялось? И почему так развилось именно теперь?
— Вы, видимо, имеете в виду разные виды хамства со стороны начальников?
Почему же только хамства? Искренние признания, вроде «государство не просило рожать», лечитесь корой дуба, питайтесь макарошками…
— Происходит в общем-то интересная вещь: наша система достигла апофеоза. Можно сказать — расцвета. Я над этим довольно давно думаю, написал целую кучу книг, последняя вышла в конце года — «Ироническая империя». Начинал я с ощущением, что система пришла к финалу. А закончил с тем, что она пришла к расцвету. Впрочем, может оказаться, что это одно и то же. Российская система — это ведь инновация. Мы ждем от нее модернизации, политики инновации, а она сама для себя — инновация. И никакие другие инновации ей не нужны. Советский Союз тоже был инновацией, но та система была одновременно и народной, элитной. В нынешней российской системе люди, которые правят, оказались на своих местах довольно случайно. И они представляют собой просто другую группу того же самого населения.
Они себя и воспринимают как часть народа?
— О народе в нашем случае говорить не надо. Надо говорить о населении. Народ — это носители суверенитета, а у нас носитель суверенитета — кремлевский двор, а остальные — это население. Это разные группы, но все они — населенцы, а не граждане, не представители народа.
Сами для себя — или так их элиты воспринимают?
— «Элиты» — это такое же злоупотребление понятием, как и «народ». Эти элиты не избранны в том смысле, что они как-то лучше, прошли какую-то особую селекцию. Они прошли ту же селекцию, что мы все: они выживали. Выживали в 1990-е годы, потом уже с лучшими возможностями выживали в 2000-е, в 2010-е. Они не отличаются принципиально от населения. Поэтому, собственно, они не элиты. Они — чемпионы выживания, которые, получив золотую медаль, отменили дальнейшие чемпионаты и медаль свою носят пожизненно. Путин — это их символ. В том числе и как спортсмен. Он ведь все время демонстрирует свои спортивные показатели, и в этом есть символический момент: я завоевал это место в честном спортивном состязании.
Поэтому дальнейшие состязания не имеют смысла.
— Да, они не имеют смысла, чемпион-то определился. И действительно оттенок разговора — новый, непохожий на прежний. Потому что эти люди теперь считают, что их чувства, их переживания, их позиции — это и есть реальное состояние населения. Они не видят причины, почему другие не могут жить так же, как они.
Да нет же, они эти причины находят. Вот один депутат попробовал «питаться макарошками» и жить на три с половиной тысячи рублей, как население, — чуть не умер.
— Дело в том, что они убеждены: только абсолютный лентяй будет жить на одну зарплату. Потому что еще одно свойство нашей системы — это верткость, проворность. Она не признает никаких правил для себя. И чем выше человек находится, тем меньше он эти правила признает. Это касается и законов. Я уж не говорю про Конституцию. Во власти люди постоянно ищут возможность «срезать угол», иногда срезают его очень удачно. И они считают, что вся страна живет так же. А если ты не умеешь быть таким же увертливым, то ты просто лентяй, неумеха. Ты неспортивный, ты не ходишь в фитнес-зал. Я не удивлюсь, если в 2019 году по поводу высокой смертности мы услышим от какого-нибудь чиновника: а почему вы не ходите в фитнес-зал? Почему не ходите в бассейн?
И правда: чего это они в фитнес-залы не ходят…
— Это один из признаков того, что система начинает чувствовать себя естественно. Из нее уходит неуверенность в себе. Не забывайте, что эти люди меньше 20 лет назад получили абсолютную власть, где-то лет 10-15 назад.
Некоторые и того меньше, года три-четыре.
— Да-да. Им нужно было время, чтобы акклиматизироваться, и вот они акклиматизировались. Есть тут и второй момент — менее приятный. О нашей системе надо говорить без предубеждений, не начинать с того, что она плохая, ненормальная или абсурдная и так далее. В конце концов, это наше творение. Если она абсурдна, то и мы абсурдны. Да — мы абсурдны. Помните, был популярный мем, обычно он шел с изображением Кремля и лозунгом над ним: «Да, мы офигели». Так вот офигели не только те, кто «там». Мы все давно офигели. Я в этом смысле не согласен с политологами, которые говорят, что наш режим рациональный, авторитарный, он такой, как у всех, у него та же судьба. Нет, наша система аномальна. Теперь наша аномальная система входит в свою аномальную норму. В Советском Союзе, мы помним, прятали неравенство, номенклатура изображала себя равной самому бедному советскому человеку. А в нашей системе наоборот: они демонстрируют свое неравенство. Они даже как бы гордятся им. Как сенатор Клишас.
Часиками.
— Часиками — и тем, что у него много такого, о чем Навальный и не знает. Это форма такого морального подавления: смотри, ты никогда не станешь таким, как я.
А почему не станешь таким, как я, — смотри выше: ты ленивый, ты не ходишь в фитнес-зал.
— И потому, что ты глупее меня, это тоже очень популярно. Ты глуп, ты неумел, а еще ты завистлив. Они очень любят обвинять население в зависти. И действительно, чувство зависти у людей возникает.
Еще как возникает. Я тоже часто им завидую.
— Потому что есть социальные сети, они полны фотографий, я уж не говорю про такие журналы, как Tatler с изображением их интерьеров, их приемов… Это опять-таки та же часть системы. Это один из тех лозунгов, с которыми люди уходили из Советского Союза: да, мы хотим неравенства. Поэтому, я думаю, здесь нас ждет новое открытие фронта.
Фронта? Тех, кого мы условно все-таки назовем элитами, против народа?
— Не против народа, это было бы политически глупо. А против этого слабого, глупого, завистливого населения. Бедного, жалкого, вечно требующего патерналистской поддержки. Вспомните процессы против врачей. Конечно, бывают натуральные свиньи, сживающие больных со свету, но наиболее скандальные случаи касались как раз не таких. У людей возникло ощущение, что врач — это тоже некая отдельная власть над его жизнью, обязанная обеспечивать выживание населения. А если кто-то не обеспечил, то врач должен отвечать перед судом. И выясняется, что это удобно для власти: для местного следственного комитета, для ФСБ, для губернатора. Власть — это всегда чье-то лицо. Лучше пусть врачи отвечают перед людьми. Поэтому мы видели много таких случаев. А в следующем году, повторяю, увидим такой открытый, я бы сказал фронт, хоть я и не знаю, в какой форме.
А какие тут возможны формы? Повышение НДС и пенсионного возраста — это разве не признаки уже открытого фронта?
— Нет, это разные вещи. С точки зрения денег система находится в цветущем состоянии. Ее цветущее состояние — это не то, когда она захлебывается в сырьевых деньгах, а когда деньги есть, запасы есть, но умеренно, поэтому система вынуждена следить за собой — ходить в фитнес-зал. А где брать деньги? Деньги надо добывать из людей. Почему вообще возникает сюжет «люди — новая нефть»? Тут есть подтекст: людям не дают возможность стать налогоплательщиками в обычном смысле слова, то есть свободно, нестесненно и бесконтрольно вести предпринимательскую деятельность, искать себе место, менять место, платит налоги…
…контролировать, как их государство тратит…
— Вот-вот: требовать контроля. Это ведь не то, что к тебе приезжает контролер и отчитывается. А то, что ты, если не доволен, просто меняешь человека, которым не доволен. Вот этого система не может принять. Поэтому она находит другой способ извлечения денег. Теперь это, прежде всего, разного рода штрафы, они появляются почти еженедельно. И чем богаче регион или город — тем больше там появляется внутренних штрафов.
Поэтому и некоторые статьи Уголовного кодекса декриминализуют, чтобы ответственность была в форме штрафа? Вместо расходов на содержание заключенного — доход от оштрафованного?
— Да, да, да. Здесь система разрывается между двумя видами власти. Один — власть финансовая, денежная, когда система просто владеет всеми богатствами страны. Продает эти богатства на внешнем рынке и частью полученных денег делится с населением. Это один вид власти, он сейчас очень актуален. Но фундаментальный вид — это когда система владеет телами населения. И напоминает болезненным образом людям о том, что она — хозяин их жизней. Напоминает об этом пытками.
Да, пытки стали каким-то очень уж распространенным сюжетом в 2018 году.
— В нормальной системе, даже пускай в авторитарной, применение пыток силовыми структурами было бы большим скандалом. Даже в таких серьезных авторитарных государствах, как Турция. А у нас, заметьте, это не скандал даже для общества. То есть скандал возникает тогда, когда пытают кого-то известного: правозащитника, политического заключенного. А если речь идет о первом попавшемся населенце, так о нем никто просто и не спросит. Если, конечно, его не запытают до смерти.
Это разве разновидность власти? Это ли не разновидность открытого против населения фронта?
— Это глубинная опора нашей власти. В России ведь не государственная власть. Россия — не государство. Это власть хозяина. И в одном отношении это хозяин тел, в другом — хозяин богатств. Он комбинирует эти два вида власти, капитализирует их, наращивает свое господство. Поэтому власть не похожа на советскую. Формально советская была тоталитарна, а нынешняя комбинирует разные формы, в том числе и правовые. Вспомните, как говорили когда-то: когда же у нас будет работать закон, почему закон не применяется. Так вот теперь закон применяется. Но лучше не стало. Потому что закон применяется выборочно, обычно — властями против тех, кто им неугоден. И применяется изначально в обвинительном ключе.
И Путин всегда говорит: ничего, мол, не поделаешь, суд принял решение.
— Знаете, я уверен, что он говорит искренне.
Да?
— Да. Его ход мысли такой: кто просил о власти закона, о диктатуре закона? Вы это получили — теперь идите в суд и разбирайтесь, я-то тут при чем.
Этого тоже в 2019 году станет еще больше?
— Что такое «больше»? Это интересный момент. Вы слышите массу жалоб на рост репрессивности режима. А ведь это не подтверждается.
Как это — не подтверждается, если мы постоянно слышим об уголовных делах за репосты?
— Это подтверждается только переживаниями. Но если говорить об использовании реальных сроков заключения по статье об экстремизме, то по цифрам принципиального, значимого роста нет. Есть рост демонстрации этого. Власти охотно это демонстрируют. В этой демонстрации участвуют и депутаты, которые что ни день придумывают какой-нибудь новый пещерный закон.
Зачем? Зачем они это демонстрируют?
— Они участвуют в забеге в новом чемпионате.
А есть новый чемпионат? Прошлые были, вы сказали, на выживание, а этот какой?
— А это уже чемпионат транзита. Власть входит в транзит и открыла новый чемпионат.
Между потенциальными преемниками Путина?
— У нас это так и понимают: все, мол, заняты подысканием преемника Путину. Но транзит — это состояние, которое началось в нынешний момент апогея системы. Участникам забега надо добиваться признания, надо добиваться, чтобы их заметили, чтобы взяли в последний эшелон, уходящий в будущее. Кто-то пытается выделиться за счет крайних, пещерных форм лояльности, за счет демонстрации какой-то уникальной силы режима. Они требуют кар, изоляций.
Почему их активность так напоминает броуновское движение, как будто они не договорились, куда и зачем бежать?
— Видимо, будет меняться само устройство власти, поэтому все нервничают. Все торопятся как-то проверить, в какую сторону бежать. Такая невротичность свойственна всем нам. Например, когда мы опаздываем, мы начинаем двигаться внутри вагона метро к выходу, который якобы позволит нам сэкономить 30 секунд. Это глупо, но это неизбежно. Это человечно. И там тоже все начинают двигаться в ту сторону, где, как они думают, будет ближе к следующему центру власти. Володин, например, начинает говорить о реформе Конституции. Казалось бы, какое ему дело. И это все — такие пробросы, которые имеют для этих людей большое значение.
Почему это состояние вы назвали словами апогей, апофеоз? Больше как раз похоже на финал.
— Я повторю, что наша система — это система, которая не признает нормы. Она нестабильна. Это система чрезвычайных положений. Для нее экстремальная ситуация, кризис, катастрофа — это ее родное состояние. Поэтому она либо использует кризисы и чрезвычайные положения, которые ей подбрасывает жизнь, либо сама их создает. Поэтому и санкции превратились для России в практически идеальный стабилизирующий фактор.
У них падают спутники, дырки появляются в космическом корабле. ГРУ оскандалилось на весь мир. Ощущение такое, что все просто разваливается.
— Это ощущение стороннего наблюдателя. А раз вы можете позволить себе положение внешнего наблюдателя, значит, у вас тоже дела идут не так уж плохо. Значит, вы сидите где-то на удобном насесте, где вам платят за положение наблюдателя. Большинство тех, кто жалуется, встроены в систему так или иначе. Они это знают. И система это знает, она это учитывает. Поэтому и массовые репрессии ей не нужны. Людей, которые раздражены, очень много, часть управленческого класса тоже раздражена. Но этим людям достаточно возможности брюзжать в социальных сетях, читать оппозиционную прессу, как-то высказываться и так далее. Они не требуют большего. Наша политизация буксует не потому, что перед ней какая-то крепкая стена, а потому, что не больно-то нужно идти дальше. Но я думаю, что власть заставит людей идти дальше.
Если люди готовы наблюдать, как все разваливается, но им достаточно и брюзжать в соцсетях, это может продолжаться очень долго, власти не надо беспокоиться.
— Нам кажется, что какие-то эпохи тянутся долго. В конце Советского Союза говорили о каком-то долгом застое. На самом деле, даже по большому счету, все время застоя — это было десять лет. Совсем небольшой срок, если учесть, что Путин у нас уже двадцать лет. Да и что, собственно, такого невыносимого происходит? Гниение? Здесь вопрос, кто быстрее сгниет: общество или власть. С моей точки зрения, они соревнуются в этом и делают это довольно синхронно.
А Путин на пресс-конференции сказал, что вот-вот у нас будет рывок. Подарил населению на Новый год ракету.
— Да, у власти есть какой-то инерционный триумфализм. Она все время говорит о победах, побед не видно. А у общества есть инерционный негативизм: оно все время говорит, что завтра все рухнет, но ничего не рушится. И, присмотревшись, мы видим, что все в каком-то смысле довольны происходящим. И не забывайте, что система глобальна, она действует в большом мире. Население понимает, что в значительной степени власть сильна своими внешними эскалациями, своими проникновениями в чужие сферы. А это она делает довольно успешно. Успешно — потому что мир находится в таком состоянии, что не может дать отпор, не разрушая международные коммуникации.
Вы имеете в виду, что можно спокойно вмешиваться в чужие выборы и травить «Новичком» людей в другой стране — войну никто не объявит, крыть миру нечем?
— Да, можно спокойно все это делать.
Но зачем?
— В этом тоже есть смысл: укрепление прочности. Если бы Кремль действительно был изолирован так, как у нас любит говорить определенная группа публики, если бы он представлял собой такую «крепость Россия», то он бы накрылся очень быстро, лишившись реального обмена с мировой средой. Но все не так. У нас кремлевские повара, например, могут заниматься войнами в Центральной Африканской Республике. И у нас еще много кроличьих нор, которые прорыты в мире и через которые движутся туда и обратно люди, деньги, оружие и тому подобные вещи. Поэтому нельзя не учитывать эту сторону стабильности — народную, мировую.
Почему-то у меня возникла ассоциация с туннелями, которые ХАМАС роет к территории Израиля.
— В этом отношении наша система наследует советской: она тоже такой интервенционист, который хочет присутствовать везде в мире. А когда условная оппозиция — назовем ее так — пытается прижать к стенке систему, та оказывается уже в каком-то другом месте, ей уже нет дела до этой оппозиции.
Она ускользает?
— Она не борется. Вот все говорят — «борьба с системой». А с кем она борется? Ни с кем. Она занята своими делами — в Донбассе, в Сирии, в ЦАР. Ей хорошо. Ей интересно. Она возится с Трампом, Трамп возится с ней, все довольны.
И когда это кончится? Нельзя ли ей как-то помешать получать такого рода удовольствия?
— Здесь есть противоречие. Если в стране есть недовольные, то это люди, которые готовятся перевыбрать власть. Заменить ее. А у нас люди недовольны, но выражается это в том, что они спрашивают: «Когда это кончится?» В такой ситуации я бы на месте Путина чувствовал себя очень хорошо. Ну, спрашивайте, спрашивайте.